Раиса Терентьевна Сакова родилась и выросла в хакасском селе Карагай Таштыпского района Хакасской автономной области.
После окончания школы училась в Абаканском пединституте. Работала в областной газете «Ленинский путь». Потом была аспирантура Литературного института имени А. М. Горького в Москве и активное участие в культурной жизни Красноярска и края. Была участником совещаний молодых писателей. Увлечённо, с интересом писала об авторах национальных окраин и известных писателях Красноярска. Сейчас — доцент Красноярского государственного университета, кандидат филологических наук, читает «Теорию литературы» и ведёт курс «Литературы народов Сибири».
Печаталась в литературных журналах Сибири. Автор публикаций «О фольклорном происхождении хакасской литературы», «После сказки», «Миф как реальность, реальность как миф», «Сердитые молодые люди», «Фольклор и литература народов Сибири» и др.
Член Союза писателей России.
[su_divider top=”no” divider_color=”#ECECEC” size=”1″]
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ
(Рецензия на сборник красноярских писателей «Какие наши годы!»)
Александром Зиновьевым был введён в науку термин «постсоветское общество» и термин «постсистемная культура». Формула выразила сущность происходящего. «Постсоветское общество» — это не просто новое пространство и время, это иная ноосфера. Произошла системная смена вех. Исторический и пространственный масштаб этой смены ещё предстоит осознать. Очевидно, системный кризис охватывает все аспекты общественной жизни. Оттого литература не может не выразить кризиса мышления, пользуясь термином Зиновьева, современного «человейника».
Рассказы Вениамина Зикунова, очерки Бориса Петрова, Анатолия Янжулы, равно как и проза Александра Щербакова, — это литература советского периода, в то время как проза Александра Астраханцева или Эльдара Ахадова, например, принадлежит постсоветскому времени. Разный тип авторского мышления, следовательно, разная поэтика произведений. Убеждена, что «разные берега» — это не самоцель, а сложившийся итог литературного и житейского опыта.
Рассказы Вениамина Зикунова «Гунькин хутор», Владимира Шанина «Филаретыч», равно как и очерк Бориса Петрова «Морская душа», — произведения, написанные в традициях советской литературы. Здесь — правда жизни, но эта житейская правда запечатлела Страну Советов. И я с удивлением обнаружила, что советская часть книги воспринимается как литература историческая, к которой по сути дела неприменимы современные эстетические критерии. Эта литература — памятник советской эпохе. Я думаю, советская эпоха в общественном сознании будет запечатлена сугубо образом художественным. Феномен советского исчезает с личностью, выражавшей это советское. Современное мышление имеет искусственный образ прошлого. Оттого постижение полноты исторического бытия, на мой взгляд, возможно именно через литературу. Историческая правда в современной литературе подчас подменяется художественным вымыслом. На смену мифу приходит мифологема, когда история придумывается вопреки исторической правде. В особенной степени это свойство литературы стало доминировать в произведениях, посвящённых советскому периоду нашей страны. В этом литературном контексте очерки Бориса Петрова, Александра Щербакова приобретают характер исторической правды. Страна Советов уходит из памяти, как Атлантида. Остаются мифы и домыслы. Оттого деревенская проза, равно как и постдеревенская литература, — это памятник ушедшей эпохе.
Ни одна этнографическая энциклопедия не воплотит знаки жизни так достоверно, как это делает художественный текст: «Ремеслу косьбы надо долго и терпеливо учиться. Как держать косу, какой брать размах, где прижать пяточку, а где носочек — всё имеет значение» (А. Щербаков. «Коси, коса, пока роса…»).
Излишне говорить, но коса, равно как и прялка, становится реликтом. Из литературы исчезает национальная картина мира. И вместе с ней уходит национальное мышление, это бытие выражавшее. Неспроста главная героиня повести Валентина Распутина говорит о себе как о «последней старинной старухе». «Советская» часть книги эту уходящую «старину» и сумела запечатлеть.
Постсоветская часть сборника имеет иную эстетику. Здесь важна не память, а личное впечатление. Я говорю о рассказе Александра Астраханцева «В потоке дней». По форме это своеобразные «затеси» писателя, не могущие иметь ни начала, ни конца. Здесь нет стремления создать концепцию бытия. Здесь скорее речь идёт об описании отдельных проявлений его. Лиризм прозы Астраханцева очевиден, особенно для меня. В советское время мне приходилось писать о нём. В своей давней статье «Сердитые молодые люди» я особое внимание обратила на социализированность прозы писателя. Тематика её была оппозиционна по отношению к существующей идеологической системе. Но эта критика не была разрушительной. Негативно воспринимались скорее отдельные аспекты системы.
И ещё одно произведение, которое мною тоже отнесено к литературе постсоветской. Это рассказ Эльдара Ахадова «Встреча».
Для меня первые произведения с «правдой» о советском государстве были открытием. Успех этих текстов, как я теперь понимаю, был в большей мере политическим, нежели поэтическим. И чем больше менялась моя страна, тем больше произведения с очередным разоблачением прошлого становились неинтересными. Концепция новых текстов была очевидной. Оттого новая вариация с определённого момента стала носить характер заданности. Появился шаблон, исключающий открытие. И если в текстах советского периода были ликования по поводу «победы», то в текстах постсоветского времени радость вызывают поражения. Не избежал этой заданности и рассказ Э. Ахадова. При очевидном писательском мастерстве автора финал рассказа, как и в сказке, был явлен с самого начала.
Историческое пространство, воплощённое в прозе сборника, тоже двойственно. Роман Анатолия Чмыхало «Дикая кровь» — это начало новой истории Сибири, а рассказ Эдуарда Русакова «Плыви, китаё-за» — наше возможное будущее.
Образ Сибири как возможной вотчины китайской в святоотеческой литературе традиционен. Но рассказ Русакова не об этом… Я внимательно слежу за творчеством Эдуарда Ивановича, начиная с его первой книги «Конец сезона». И, если так можно выразиться, очень полюбила его главного героя. По сути дела все рассказы Русакова — это роман, описывающий одного героя — от рождения до самой смерти. «Я был тихий мальчик и большой фантазёр, и мне вовсе не хотелось активно участвовать в жизни взрослых» («Конец сезона», рассказ «Тётя Роза»).
Это самоопределение ребёнка оказалось формулой, объясняющей коренное качество героя, которое он пронесёт до самой смерти. Способность к фантазии делает его уязвимым, слабым в этом мире, однако именно фантазия и возвышает его над действительностью. Он живёт духом в иных мирах. От грубых проявлений действительности улетает, ускользает. Кожа его истончена, и если бы не фантазия, жизнь его стала бы адом. Это не мечта, скажем так, о лучшей доле, а стремление украсить жизнь выдумкой. Это как в детской раскраске: чёрно-белый мир становится разноцветным, красочным, и даже злому троллю можно крылья нарисовать, а потом видеть не лицо его, а взмах крыла. И враньё его — ложь в утешение. «Матери вру, что всё хорошо, пациентам — всё будет хорошо…»
И ещё одна черта персонажа Русакова, с детских лет явленная, — самоирония, спасающая его как от пошлости в жизни, так и от пошлости в себе. И даже перед смертью русаковский «тип» в рассказе «Плыви, китаёза» верен себе: «А моим отцом был Великий Кормчий, мама моя его звала Мавочкой». Отец-пьяница, оставивший жену в роддоме с новорождённым, — это проза, а отец — Великий Кормчий — это опера. Финал рассказа был бы тривиальным, если бы профессор Зайцев погиб от пули оккупанта: «Он плыл, плыл, плыл, и судьба берегла от китайских пуль, но не смогла уберечь от инфаркта. Уже коснувшись ногой дна, он радостно вскинул руки… но тут же замер и задохнулся от острой невыносимой боли…»
В смерти Зайцева мне чудится большее, чем финал рассказа. Мне здесь видится завершение определённого периода в творчестве писателя. Гибель Зайцева мною понимается как глубинная исчерпанность полюбившегося мне персонажа. Роман о «Зайцеве» закончен.
Два разных «берега» увидено мною в этом сборнике. Между этими двумя полосами — «постсистемный» хаос, заключающий в себе всё многообразие жизни постсоветского пространства.
Начну с раннего рассказа Олега Корабельникова «Стол Рентгена». Рассказ этот, помнится, был опубликован в первой книге писателя «Башня птиц». Первое моё впечатление о рассказе — фантасмагория, усиленная натуралистичностью деталей: «Бронза размягчалась на глазах, она приобретала цвет плоти, красное дерево растекалось тёмной кровью, осколки стола превращались в мёртвое тело человека». Фантастичность сюжета мною воспринималась как выражение специфики писательского дарования Корабельникова.
Сегодня в этом произведении я увидела иное.
Известный американский философ Фрэнсис Фукуяма современную культуру определяет как культуру «постчеловеческую». Содержание термина Фукуямы очевидно. Не решусь говорить в масштабах общечеловеческих, ограничусь пространством «Кырска» (топоним Э. Русакова).
«Стол Рентгена» — метафора овеществления современного человека. Постчеловеческая культура безобразна. В ней не только образа Бога нет, но и человек из неё вытесняется. Этот процесс овеществления и стал сюжетом рассказа Корабельникова. «Вещь с большой буквы» стала идеалом Реставратора: «Он возненавидел в себе человека. Он взял верёвку и, завязав петлю, долго ходил по квартире, выискивая подходящий крюк или гвоздь. Но на крюках висели хрустальные люстры, а на гвоздях — хорошие картины. Он боялся повредить вещи своим мерзким телом…»
Реставратор отрёкся от своей принадлежности к человеческому роду: «… с трудом разделся, встал на четвереньки и отринул мягкую болезненную плоть, свои слабые руки, всю свою слизь, мякоть, жижу смертную и смрадную… И когда тело его претерпело в корчах и муках метаморфозу, он ощутил всем своим ароматным деревянным и чистым телом, как обновление превратило его в то, чем он был всю свою жизнь, но только смутно догадывался об этом, — он стал письменным столом».
Эволюция героя завершена, столом Рентгена он стал. Отречение от человеческого Корабельниковым описано как процесс бесконечный. Метаморфоза Реставратора стала мечтой его друга, коллекционера: «Быть столом — это самое прекрасное на свете!» Ради осуществления этой мечты Реставратор и был убит: «… долго примеривался плотницким топором и со всей силы ударил по полированной поверхности. Красное дерево дало трещину». Убийца свою награду получил, в застеклённом шкафу он увидел своё отражение: «… часы в пузатом футляре с тяжёлым свинцовым маятником…» Венцом жизни героя стало его превращение в вещь.
Этой последней метаморфозой героя завершается целый этап творчества писателя.
Поэзия, представленная в сборнике, тоже, образно говоря, космический хаос, выражающий все противоречия нашей эпохи.
Бинарность сохранена и в этом пространстве. С одной стороны, политизированная поэзия Владлена Белкина. Стихи Владлена Николаевича определяют не только поэтическую судьбу поэта, но и его житейский опыт. Родина в стихах В. Белкина представлена как страна трагическая, находящаяся в подспудном ожидании грозных перемен:
Всё затаилось и молчит,
как будто про себя гадает:
когда же молния ударит?
Кого она испепелит?
Оппозиционной гражданской поэзии В. Белкина словно противостоит поэтическое творчество Николая Ерёмина, в стихах которого мне всегда чудится желание поэта уйти от мелочной житейской суеты, а вернее, даже стремление не видеть досадное, переходящее, скажем так, не вписывающееся в эстетическую концепцию мира, созданного поэтом:
Проснусь, печалью озабочен.
В себя, как в небо, погляжу.
Стихи, приснившиеся ночью,
При звёздном свете запишу.
Всё, что доступно вдохновенью,
Доверю сердцу и уму —
И жизнь вмещу в одно мгновенье,
И в будущее загляну…
И ещё одна явная тенденция содержания книги — это тема Бога. Особенно мне хотелось бы отметить, что представлен личный духовный опыт автора. Я говорю о стихотворной подборке Ларисы Вотинцевой:
Лишь затеплю свечу
Перед ликом святым —
Всё, чего я хочу,
Растворится, как дым.
Всё, чего я прошу,
Позабуду навек.
Вспомню вдруг, как грешу, —
Гиблый я человек.
Кротко долу склоню
Пред иконой главу.
Только сердце виню,
Только Бога зову…
Через образ Храма стремится постигнуть судьбу Родины и свою судьбу Алексей Мещеряков в стихотворении «У Покровской церкви»:
Русское — колокол. Грустное — облаком.
Долы застылой земли.
Пеший по памяти, водами, волоком.
Купол Софии вдали.
Русское — пологом: немцы ли, половцы.
Вечные лики икон.
Я продышал до Рублёва, до Троицы
тесные рамки окон…
Поэтическая часть сборника оказалась более насыщенной, чем прозаическая. В силу жанрового объёма поэзия представлена большим количеством имён. Многообразие мира в этой книге в большей мере выражено именно через поэзию. Особо, отдельно в этом многообразии находится стихотворная подборка Марины Саввиных. Эстетика её поэзии основана на европейской и русской культуре. Поэтика стихов утончённа и изысканна и среди представленных опытов поэзии выглядит диковинно и одновременно традиционно литературно. Это не отражение жизни, а создание фресок на её тему. Патина искусственной старины в поэзии М. Саввиных создана системой сравнений. Поэзия её несёт отблеск благородного Серебряного века:
Мы прощаемся — мальчики хором поют.
Ночь — луна и фиалка — увяла.
Нам уже неуместно и холодно тут.
Утро мёртвых. Конец карнавала.
На крючок — белоснежную маску греха…
Над руинами площади — крик петуха
И разорванный плащ Коломбины…
Поэзия сборника — это и литературная классика Красноярска — стихи Анатолия Третьякова, Романа Солнцева, Алитета Немтушкина, — и одновременно имена, сравнительно недавно ставшие известными, — Иван Клиновой, например.
Книга оказалась многомерной. Здесь нет единой концепции издания. И в этом как достоинства сборника, так и его недостатки.
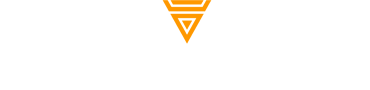





Оставьте ваш комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.