Анатолий Ларионович Буйлов родился 25 мая 1947 года в Комсомольске-на-Амуре.
Детство провёл на Колыме. Работал в старательской артели, в топографической экспедиции, кочевал по охотской тайге и тундре с оленеводами. После службы в армии работал в Приморье тигроловом. Ловил тигров для съёмок фильма «Дерсу Узала». Окончил в 1987 году Высшие литературные курсы в Москве.
Первый рассказ «За соболем» опубликовал в районной газете «Рассвет Севера» (пос. Ола, Магаданская обл.). Первая книга — роман «Большое кочевье» — увидела свет в 1982 году. Положительную оценку роману дали в то время Виктор Астафьев и Леонид Леонов.
В плане мастерства В. Астафьеву понравился второй роман А. Буйлова — «Тигроловы». Оба романа вызвали целый ряд одобрительных статей в центральной прессе. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса имени А. М. Горького на лучшую первую книгу молодого автора (1983), премии имени К. Федина за лучшую книгу о рабочем классе и современной деревне (1984).
Член Союза писателей России. С 1987 года живёт в Красноярском крае.
[su_divider top=”no” divider_color=”#ECECEC” size=”1″]
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
МОЁ ЗИМОВЬЁ
Десятое зимовье я строю в тайге и всегда удивляюсь такому событию. Да ведь как не удивляться? Приходят в самую таёжную глухомань два человечка с одной пилой, с двумя топорами, с кованным из рессоры ножом для колки драни на крышу, с дюжиной килограммов гвоздей, с плотницким инструментом для разметки углов и пазов, именуемым «драчкой», и, сложив всё это на временном таборе, начинают валить деревья и распиливать их на четырёх- и пятиметровые брёвна. Таких брёвен, чтобы не задевать головой потолочную балку, необходимо сорок четыре, да, кроме того, нужны и половые, и потолочные балки, и множество двухметровых плах для потолка. И всё должно быть ошкурено, окантовано, плотно, для тепла и красоты, пригнано.
Сырое пятиметровое бревно — не хворостина, надо его и притащить к срубу, и поднять на сруб, установить его, разметить, очертить «драчкой» со всех сторон, надпилить и стесать размеченные углы, вырубить паз, примерить, подогнать и лишь потом посадить его на мох. Сорок четыре бревна! Плах для потолка — тут их прорва, добрая сотня. Потом — стропила, обрешётка.
Самое сложное — найти прямослойный кедр, свалить его и распилить на метровые чурки, а чурки расколоть на четвертинки, а из четвертинок нащепать тысячу штук драни. Если кедр попадётся не прямослойный, клёпка будет скалываться пропеллером, такая клёпка на крышу не годится. Непросто и тяжко добыть клёпку, непросто и долго крыть такой клёпкой крышу, вот почему подавляющее большинство охотников покрывают сейчас зимовья толем — быстро и немного трудов; правда, и крыша такая в тайге служит недолго: то снегом её раздавит, то упавшей с дерева веткой прорвёт, то хозяин тайги — медведь — порвёт её в недовольстве за запах её, резкий и чуждый. Иные горе-строители и брёвна уже не кантуют, обрекая их заведомо на скорое гниение: для меня хватит, а после меня пусть другие строят. Да что там кантовка брёвен! Уже и сами брёвна с корой в стену кладут, и не в паз, а встык, затыкая щели мхом и тряпками. В таком-то зимовье, мокрый да потный, даже при пышущей жаром печке не разденешься до голого тела, сифонит от стен в разгорячённое тело холодными ледяными струями. Иные к тому же и венец лишний положить поленятся; осядет зимовье за год, и вот уже нельзя в нём ходить во весь рост, бьёшься головой о потолочную балку, клянёшь хозяина-строителя, а он, тот хозяин, быть может, в это время живёт в каком-то другом, чужом зимовье и тоже, ударяясь о чужую балку, клянёт другого строителя, и так, кляня друг друга, живут на земле два строителя. И не так ли точно, ругая друг друга, живём мы все? Но не стану портить себе настроение тревожными мыслями, сейчас я чист — мы строим зимовье! Строим крепко! Строим чисто! Строим на совесть!
Мы приходим к срубу на рассвете. Зажигаем в центре сруба большой дымный костёр из сырых смолистых щепок. Дым ест нам глаза, першит в горле, но он слегка отпугивает тучи комаров и мошек, которые нещадно жалят нас утром и вечером. Отпугивает дым и клещей, но мы уже привыкли к ним и выдираем их из своего тела ежедневно десятками.
Обедаем мы прямо у сруба, в старое сластёновское зимовье ходим только ужинать и ночевать. Работаем без перекуров, благо ни я, ни Сластёнов не курим. Работаем с шести утра до девяти вечера.
Мы не железные роботы, вечером, возвращаясь к жилью, мы спотыкаемся от усталости, но мы хотим сделать зимовье на три дня раньше срока и эти сэкономленные три дня использовать для рыбалки. Причина, поверьте, очень уважительная. И вот на седьмой день, после обеда, мы навесили дверь, сделали стол и нары, сколотили из толстых плах короб, насыпали в него песку и камней, установили на этот фундамент железную лечь, затопили её — и вот сидим на новых нарах и сквозь комариный гуд, блаженно расслабляясь, слушаем, как всё смелей бьётся-разгорается в камельке весёлое живое пламя. Вся избушка изнутри янтарно светится свежеструганной древесиной и пахнет деревом и смолой. Любовно оглядываю стены, потолок, нары, стол, дверь, смотрю и на свои мозолистые руки, перепачканные древесной смолой, и с удивлением и гордостью думаю: «Ведь это ж всё сделано вот этими моими руками!»
Но пора уходить, а уходить из этого чистого янтарного теремка не хочется, пожить бы тут недельку-другую, отдохнуть и душой, и телом.
Уходя, мы снимаем с окошка целлофановую плёнку, заменяющую стекло, и оставляем дверь открытой настежь — это для того, чтобы сырая избушка не заплесневела, но, продуваемая сквознячком, просохла бы; по этой же причине не накидали мы под крышу на потолок земли и мха — осенью, перед промыслом, Сластёнов сделает это сам.
Отойдя от избушки, не сговариваясь, останавливаемся — любуемся: теремок! И опять душа наполняется гордостью. Ведь ещё совсем недавно, неделю тому назад, в молчаливом сумраке тут стояли плотной неприступной стеной деревья; и вдруг на этом месте появилась освещённая солнцем весёлая полянка, и на ней — такая же весёлая и уютная золотисто-янтарная избушка, а в ней для всякого попавшего в беду путника есть и соль, и спички, и топор, и пила, и рыболовная леска с крючками, и рисовой крупы на неделю, и муки на три дня. Мы подумали о тебе, страждущий путник, так, войдя в наше жилище, подумай же и ты о других страждущих — не разори, не укради, заклинаю тебя — будь Человеком!
Почему же всякий раз, когда я построю зимовье, душа моя и ликует, и тревожится? Есть ли повод тревожиться?
Давно это было, лет десять тому назад. В нашей тайге, на отцовском участке, потерпел аварию самолёт, лётчик катапультировался, но, приземляясь на парашюте, сильно повредил ногу. Брёл по снегу, опираясь на палки-костыли.
Декабрь. Мороз. Дремучая, безлюдная тайга. И нет уже сил, и нет веры в спасение. И вдруг в дремучей, безлюдной тайге, на маленькой снежной поляне, как сон, как мираж, как чудо — зимовье! Зимовье!! Обессиленный, замерзающий человек охвачен радостью: спасён! Спасён! Спасён! Собрав последние силы, он, падая и вставая, торопливо бредёт к зимовью, с надеждой открывает дверь и, войдя, поражённо цепенеет. В зимовье нет ни печки, ни спичек, ни еды, нет и топора…
Мне страшно даже предполагать, какие чувства были у раненного, замерзающего лётчика… Это было зимовье моего отца. Ещё летом он занёс в зимовье продукты, собираясь придти сюда соболевать, но приболел, не смог вовремя выйти на промысел. Зная о болезни отца, какие-то бичи спокойно весь ноябрь охотились на его участке, крали продукты, а в декабре, перед большим снегопадом, забрали из зимовья всё, что могли поднять, и перенесли через перевал в свою браконьерскую палатку.
Узнав об аварии самолёта, отец, не долечившись, попросил включить себя в поисковую группу и сразу же пошёл в верхнее зимовье. Всего лишь два дня надо было продержаться лётчику. Но как продержишься в тридцатиградусный мороз без сил, без огня, без веры в человека?
Подходя к избушке, отец ещё издали у порога увидел свежие следы лётчика, обрадовался, но сразу и насторожился, встревожился, удивляясь тому, что не вьётся из печной трубы дымок, что не пахнет избушка человеческим жильём, что стоит она посреди заснеженной поляны зловеще и немо, будто мраморный холодный склеп.
Ещё не открывая дверь, боковым зрением опытного таёжника увидев выходящий из избушки след, не желая верить этому, отец рванул на себя дверь, заскочил в зимовье и сразу всё понял: в разорённом этом зимовье было темней и холодней, чем снаружи. На столе, на вырванном из блокнота двойном листочке лежал химический карандаш и заряженный патрон от пистолета. Негнущимися, замёрзшими пальцами лётчик написал моему отцу своё последнее завещание: «Не известный мне Человек! Хозяин этой избушки! Ты меня страшно сейчас обидел! Подло обманул! Не меня одного — детей моих тоже… Я замерзаю, но не хочу умереть в этом подлом жилище. Прощайте, люди добрые! А тебе, хозяин избушки, шлю своё проклятье: будь проклят! Всё зло на земле из-за таких, как ты. Записка семье и записка командиру части при мне, в моей полевой сумке, прошу передать. Капитан 3вягинцев В. Л. 24 декабря».
Замёрзшего лётчика отец нашёл в центре поляны рядом с зимовьем. Записку лётчика он никому не показывал и не рассказывал о ней, а передал её мне незадолго до своей смерти.
— Вот, сынок, всё, что знал и умел, передал тебе. Тряпья нет, денег нет — это всё прах, пустота! Ты честен, трудолюбив, неглуп, владеешь ремеслом — спасибо тебе. Я доволен. Такими же и детей своих воспитай. Это самое главное на земле. А вот тебе завещание — храни его и вспоминай о нём, когда увидишь в тайге зимовье… Пусть воруют, сынок, пусть. А ты всё равно оставляй! Помни, сынок, не для них, воров, оставляешь, а для доброго страждущего человека. Из горсти добрых семян хоть один росток да взойдёт, вот и сей всю жизнь. Ныне земля-матушка шибко в добрых ростках нуждается! Не убивали мы с тобой капитана Звягинцева, а страшное его проклятие хоть малой частью, а справедливо к нам — справедливо! Все мы люди, все мы человеки, и всё плохое и хорошее — всё наше, всё общее, нами рождённое, нами и вскормленное. Помни об этом, сынок, — вот и всё моё завещание…
С той поры пуще всякой сберкнижки берегу я записку — страшный укор капитана Звягинцева, и всякий раз, когда мне трудно и радостно, когда случается в моей жизни большое, как сегодняшний день, событие, я вспоминаю завещание своего отца.
— Ну, хватит любоваться, пойдём на табор, — радостно окликает меня Сластёнов и, не дождавшись ответа, уходит.
«Ну что ж, избушка, — говорю я мысленно, — мы тебя построили, ты уж постарайся подольше послужить добрым людям». И, словно ответ моему пожеланию, невесть откуда налетел ветерок и, шаловливо встрепав и раскачав верхушки деревьев, умчался в лесную даль и растворился в ней, как волна в морской пучине. Но потревоженный лес всё ещё продолжал о чём-то шуметь и вздыхать, и чёрный дятел-желна согласно откликался ему гулким добрым стуком, а внизу подо мной, у подошвы невысокой терраски, неумолчно звенел и смеялся прозрачный, как воздух, ключик.
И шум листвы, потревоженной ветром, и пенье птиц, и звон ручья, и даже комариный гул — всё здесь было наполнено каким-то глубочайшим смыслом, имело свой язык, который я тысячелетия тому назад понимал, а теперь, разучившись понимать, тоскую о нём, стремлюсь к нему, чувствую его каждой клеткой тела своего, каждой пульсирующей жилкой.
Иногда мне кажется, что всё в лесу, как в симфоническом оркестре, слаженно и стройно, каждый играет на своём инструменте, и лишь я, Человек, возомнивший себя царём Природы, разучившись играть, потеряв и свой инструмент, хожу среди оркестра неприкаянно и зло, мешая музыкантам и дирижёру… От таких мыслей в душе рождаются смутная тревога и растерянность. Но вскоре представится случай — сам ли ты совершишь поступок, совершит ли его кто-нибудь иной из жителей планеты, — но явится пример гармонии Человека с Природой, непременно явится! И тогда вновь воспрянет мятежная душа надеждой и радостью, и станут понятны язык дельфинов и пенье птиц, шелест листвы и звонкий лепет хрустально чистого, бегущего под сенью леса ручья, — всё станет плотью твоей и зазвучит в тебе музыкой жизни — стройной, красивой, вечной.
Такое светлое чувство рождают во мне и храм Василия Блаженного, и пшеничное поле на краю деревеньки, и картины Левитана, и стоящая у конюшни лошадь, и перезвон кузнечных молотков, и задушевная песня, и такое вот, как наше, светлое, уютное, на совесть выстроенное зимовье. Да, конечно, зимовье наше не Бог весть какое строение, не храм, всего лишь избушка, но в ней наш привет и приют Человеку, и мы уходим от неё с лёгким сердцем и с чистой душой.
1985
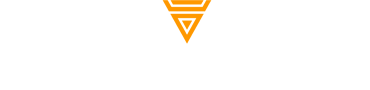





Оставьте ваш комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.